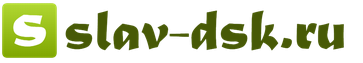Режиссер Александр Сокуров: идет к тому, что в России разразится религиозная война. «Ты приносишь только вред, создавая бессмысленные, серые пятна Сокуров интервью знак
Фото: Wikipedia Commons
Большой тихий круглый зал библиотеки. Стеллажи с книгами вдоль стен. Маленький столик, две чашки чая, приглушённый свет. Тихая неторопливая беседа-интервью с Александром Сокуровым. О чём? На этот вопрос невозможно ответить в двух словах, как невозможно в двух словах сказать, о чём фильмы режиссёра. Говорили о Перми-36. Склонности к взаимоистязанию. О власти. О церковной собственности, Курентзисе, новых губернаторах, о музеях и о том, что вне нравственности и безнравственности. Обо всё этом и о том, как это всё взаимосвязано.
О Перми-36
Видели ли вы где-нибудь за пределами России пример того, что можно сделать на подобном месте?
Нет. Видел Освенцим, видел Музей холокоста в Израиле, видел музей атомной бомбардировки в Японии (Мемориальный музей Мира в Хиросиме - Прим.ред.). Масштабные музейные идеи... Я не могу сказать, что мне всё там понравилось, но везде есть концепция, понимание - зачем и как.
Здесь [в «Перми-36"] надо ещё очень серьёзно об этом думать. Мало получить от государства возможность распоряжаться музеем. Сейчас здесь есть выставки, созданные новой командой музея. Про самиздат, про возвращение из лагерей, про лесоповал... И много подлинного пространства: оно и есть - главная постоянная экспозиция. Оно, кажется, самодостаточно. Но ясно - это музей про бесчеловечную Систему. Про её механизм. И про её жертв. Важно: вектор найден. Но что дальше? Полагаю, надо думать о стратегии развития, нужна концепция движения. Вот такое „намоленное“ место в стране. Как понять, в чём его значимость? Безусловно, нужен дизайнер, который чувствует и понимает это. По каждой экспозиции должны быть эскизы. Обязательно должна быть отдельная экспозиция самиздата. С историческими экземплярами, включая работы Петра Струве, издательство „Умка-пресс“ - со всем, что они делали. Диссидентское движение, политические жертвы - это возникло не на пустом месте. Это развивалось шаг за шагом, постепенно, включая и тех, которые швыряли бомбы в императоров.
Должно быть какое-то размышление на эту тему: откуда и почему. Ты заходишь в „Пермь-36“, и ты не должен испытывать чувство вины от того, что находишься на территории лагеря. Там люди страдали, а ты ходишь и глазами „стреляешь“ по этим стенам. Ты должен понимать и сопереживать. Ты проехал 100 с лишним километров, чтобы попасть туда... Оказавшись в этом месте, приехавший должен испытывать потрясение не только эмоциональное, но и драматическое, интеллектуальное.
 Фото: Кадр из фильма «Кому принадлежит прошлое?»
Фото: Кадр из фильма «Кому принадлежит прошлое?»
И ещё надо сказать спасибо тем, кто это придумал, начал создавать, выстрадал и - потерял... К сожалению. Ради жизни музея надо прекратить распри. Если нет сил работать с музеем сегодня, надо оставить новую команду в покое, дать возможность „Перми-36“ развиваться. Сегодня в музее есть люди, способные серьёзно работать. И есть опытный научный куратор, историк и музейщик, „делегированный“ Пиотровским (Юлия Кантор, доктор исторических наук, эксперт Союза музеев России - Прим. ред.).
Об особенности русского характера
Bы говорили, что так ненавидеть и зверски истязать друг друга могут только русские, что это в характере русского человека. В чём природа этого?
Резко я выразился... Эмоционально... Может быть в том, что граница между разумом и душой, сердцем в русском характере почти никак не очерчена. Я говорю о народе как таковом, а не об отдельных людях. О народе, который способен жить в любых условиях, способен позволить себе не думать о том, что происходит вокруг. Это чрезвычайно порочная предрасположенность. Мы, как немногие, к этому очень предрасположены. Беда.
Это же не генетическая, как сейчас модно говорить, предрасположенность?
Генетическая? Наследственная. Она формировалась постепенно. Малая требовательность к качеству социализации, способность выделить главного козла в стаде и идти за ним. Я очень много ездил и езжу. Я видел, как разные народы создают свои системы, в каком „санитарном“ состоянии они их содержат. В какой степени народ - автор системы, и в какой степени народ - автор своего государства и так далее. В этом смысле мы более всего похожи на латиноамериканцев. Но у нас есть своеобразие, потому что у нас есть холодное время года, которое заставляет нас ещё больше скукоживаться и подчиняться.
Предела социального, политического жестокосердия русского человека не вижу. Вот в качестве иллюстрации. Мы очень часто говорим, что с судебной системой у нас нелады. Я был на многих судебных процессах. Я потрясён какой-то безнадёжной ограниченностью людей, которые на государственном подиуме сидят в мантиях. Безнадёжное хамство.
 Фото: Тимур Абасов
Фото: Тимур Абасов
Bы полагаете, что это именно ограниченность, а не игра по принятым правилам?
Ограниченность, ограниченность. Поразительно: 80 % судей - женщины. Но... Хамство, высокомерие, надменность. Бесконечная надменность... И „непричёсанность“ и неопрятность в голове. И редко встретишь другой вариант. По некоторым признакам можно определить, что это - заболевание или просто лёгкая хворь? Это - заболевание. Вот я набросился на женщин-судей... Мужчины в мантиях - не намного лучше. Я знаю, что состоянием уровня „профессионализма“, „культуры“ судей российских судов крайне встревожены и в Конституционном суде России. Даже атмосфера, „запахи“ в наших судах, отделениях полиции - как в аду. Сам народ - сотворец этой атмосферы.
О власти
Какая стадия внутренней эволюции должна наступить, чтобы человек, получивший власть над людьми, сам остался человеком?
Очень трудный вопрос. Главный. Должна быть изначальная нравственность. Изначальное величие личности. За получение власти человек не должен платить лицемерием, предательством и преступлениями. Например, Вацлав Гавел таким человеком был. Изначально. Власть должна быть только в руках человека с гуманитарными идеалами. Голосуйте только за тех, для кого гуманитарные цели выше политических.
Это же как-то воспитывается в человеке?
Я не знаю. Я не знаю, кто воспитывал Гавела, но это человек, который пронёс бремя власти с достоинством и позволил стране остаться в достойном положении. По крайней мере, пройти какой-то этап.
Bы же, наверное, не раз видели, как вроде бы достойный человек начинает меняться, получив власть?
Всё сложнее... Мне неизвестны случаи, когда власть получали бы люди, близкие к тому, о чём говорю я. Все приходят во власть с очень большим грузом личных проблем и даже обид. Делая свои фильмы, я вынужден как-то „заныривать“ в эту проблему, „нырять“ вглубь. И должен сказать, что... как бы это точнее сформулировать... Гёте сказал: „Несчастный человек опасен“. Всякий человек, добивающийся власти, несчастен как личность. Власть получают только люди с колоссальным грузом обид, трагического подсознания. В России, к сожалению, по-другому не было. Даже императоры имели такие проблемы, хотя там чуть полегче было. Все, кто пришли к власти после падения династии, они все были чрезвычайно несчастными личностями - как мужчины. Все пережили крушение личных надежд, какие-то мужские катастрофы. Никто во власти не был счастливым. Никто во власти не приобрёл ни семью, ни счастье, ни любимых людей, ни любимых друзей.
Получается какая-то безнадёга.
Ну почему безнадёга? Это жизнь, а жизнь по умолчанию - „безнадёга“, потому что мы умрём. Может быть, есть такие люди, которые способны избежать этого. Что значит „безнадёжно“, „оптимистично“? Мозги-то нам даны для чего-то.
Я имел в виду Россию. Выходит, мы обречены на это и ничего исправить невозможно. Демократия для нас - миф. Что в такой ситуации может спасти?
Случайность. Если вдруг в общественном пространстве случайно появляется возвышенный человек. Страной могла бы руководить, например, Галина Вишневская. Мог бы руководить Андрей Сахаров, но он совершил много тяжких ошибок. Очень серьёзным был вариант с Ельциным, но уровень сложности задач быстро привёл к постоянному отставанию. Вал больных политических проблем нависал над его моральной статью. В моральном смысле он был к этому готов. Он был в моральной форме. Но сложность вопросов, которые надо было решать, оказалась за пределами качества и объёма его образования и качества и объёма интуиции. Полтора-два года он соответствовал этой сложности, а потом стал естественно отставать. Ельцин был замечательным, и я его и его семью очень любил. Бог ему судья... Но это говорит и о том, что сложность ситуации в России была настолько велика, что объективно трудно было найти человека, который бы не ошибся в этих условиях.
Особенность русской истории в том, что руководителю государства всегда доставались глобальные проблемы. Никогда не было так, что можно было решать только текущие проблемы. Всегда вопиющими глобальными проблемами путались все карты. Ни один руководитель в истории России не пришёл к власти, не получив в наследие катастрофические проблемы. Ни один. Может быть, я ошибаюсь.
По силам ли это решить одному человеку в принципе? По сути, у нас же государством всегда правит один человек.
Если человек с гуманитарной программой и гуманитарным внутренним основанием. ТОЛЬКО он сможет найти решение этих проблем. В том числе и за счёт того, что его душа сможет найти, подобрать таких соратников, которые будут мало ошибаться. Я в это верю. Да и закон должен быть выше царя. Такого никогда не было.
О Пермской галерее, церкви и „её“ имуществе
Церковь всё чаще заявляет права на имущество, которое когда-то принадлежало или не принадлежало РПЦ. У вас, например, есть история с Исаакиевским собором, у нас - с художественной галереей. Может ли быть какой-то предел этому?
Здесь надо рассматривать конкретные случаи. Я сегодня был в Пермской художественной галерее. Там плохая аура. Музею там тесно, ему там невозможно жить. Надо найти место, в котором галерее можно расположиться, и бежать из этой церкви. Другой вопрос в том, что губернатор должен сделать всё для того, чтобы духовенство потом не заставило бы этот храм содержать. Как у нас - Исаакиевский собор отнимают, но из бюджета города по-прежнему будут тратиться огромные деньги на его содержание. В Санкт-Петербурге прекратили строить школы и больницы. Такого никогда не было. Экономическое положение города скверное. Церковь никогда не будет озабочена здоровьем экономики страны. Пусть церковь забирает здание и пусть управляет своим хозяйством. А у светской власти уйма своих забот.
А сам прецедент. Способен ли губернатор им отказать при их мощном лобби?
Молодой, жёсткий человек способен. На его стороне Конституция. Не надо встречать их поцелуями, лобзать руки, когда к нему в облачении в кабинет войдут. У священников - паспорта граждан Российской Федерации. Единственная законодательно позволенная форма общения губернатора с ними - это разговор как с гражданами. Церковь отделена от государства. Если губернатор будет следовать Конституционному праву, если у него есть далеко идущие амбициозные планы, он не будет переступать через себя и идти на сговор.
 Фото: Тимур Абасов
Фото: Тимур Абасов
Музею некуда идти.
Найдут место. Найдут. Надо бороться за это. А город такой храм содержать не должен. Исаакиевский собор органичен и удобен для музея. Пермский собор - нет.
Кстати, Исаакий никогда не принадлежал церкви. В Российской империи церкви вообще ничего не принадлежало. Всё было собственностью государства. Вы, наверное, обращали внимание на заброшенные, но не разрушенные церкви во многих сёлах, малых городах. Таких по всей стране огромное количество. Когда-то богатый селянин или помещик построил церковь за свой счёт и сдал её „на баланс государства“. Изредка храмы строились на государственные деньги. Церковь оформлялась как приход, и священнику назначалась зарплата из госбюджета. Строились такие церкви почти всегда на частные деньги.
Как только начались революционные события, и большевики захватили банки, они первым делом отделили церковь от государства. Денег и без того было мало. И священники перестали получать зарплату. Помыкавшись месяц-другой, они забирали свои семьи, закрывали храмы и уезжали в города. Занимались торговлей, устраивались на работу. А храм оставался на разграбление селу. У народа не было особого отношения к храмам. Их разбирали, грабили, жгли. К слову о нашем обществе: люди, которые молились, умилялись, плакали перед иконами, лбы разбивали, отмечали религиозные праздники - позже ходили и грабили это всё, жгли, воровали, загаживали. Тот же самый народ. Потом советская власть приспосабливала некоторые из храмов для своих нужд. Большевики взрывали только крупные, знаковые церкви.
Поэтому разговоры о том, что мы возвращаем церкви то, что ей принадлежит, - далеки от правды. У церкви не было своего имущества. Когда началась революция 1917 года, миллионы людей обрушились на церковь, потому что в глазах православных людей церковь и николаевская Россия были одним целым. Священный синод участвовал в управлении страной, благословил вступление России в Первую мировую войну, благословлял расстрелы рабочих, когда начались первые бунты в Сибири и так далее. Священный синод ни разу не заявлял, что убивать нельзя и надо поступить по-христиански. Поэтому в представлении населения это была одна, попросту говоря, компания. Поэтому в течение нескольких месяцев продолжалось „триумфальное шествие советской власти“. Страна полностью отошла от монархического режима. Церковь, которая могла бы быть посредником в гражданской войне, - им не стала.
О встрече с Максимом Решетниковым
Bы встречались с врио губернатора Максимом Решетниковым. Есть что рассказать для прессы?
Это была, что называется, „мужская“ встреча. Кроме нас двоих, никого не было. Я позволил себе говорить обо всём, что посчитал важным для Перми. Про музеи в том числе. Включая „Пермь-36“. Ко всем моим вопросам губернатор отнесся с пониманием. Я могу сказать, что он стоит перед тяжёлой кадровой проблемой. Негде взять людей, чтобы навести порядок и создать какую-то разумную экономическую модель существования. И не только города. Вокруг города - огромное заброшенное, вымирающее пространство. Он сказал, что в первую очередь объездил весь край и нашёл положение крайне тяжёлым.
Где взять такое количество профессиональных, молодых энергичных людей, чтобы собрать команду...?
У меня всегда был вопрос к Явлинскому, к Навальному: вы предлагаете прекрасные проекты, говорите правильные слова. Ну, получили вы власть. Вы проснулись президентом. С кем работать будете?
У большевиков, когда они получили власть, была такая же беда. Но они как-то выкрутились.
А как выкрутились? Через убийства, через террор, через национальную чистку, через смерти. Не подчиняешься - расстрел. В Петербурге в заложники брали сотнями. Просто с улицы или выборочно заходили в дома. Если происходили нежелательные события, заложников ставили к стенке. Не было диалога с обществом. Не умели разговаривать. Не умели понимать. А как мог комиссар с улицы найти общий язык с главой банка Российской империи? О чём они могли говорить, когда требовали ключи от сейфа, документы? Очень мало банковских служащих перешли на сторону новой власти. А это была кровеносная система страны. А когда МИД брали..?!
Перед губернатором стоит проблема диалога. Где эти квалифицированные люди? Губернатор не ставит перед собой политических задач, а прекрасно понимает, что начинать надо с экономики. Надо понять, что делать с этими пьющими, гниющими посёлками. Как создать нормальную транспортную структуру, как предать всему этому осмысленный системный характер. Один он этого, конечно, не сделает.
Когда мы говорили о театральных делах, я ему сказал, что необходимо сделать всё для того, чтобы от вас не уехал Теодор Курентзис. Иначе будет дыра, которую вы ничем не заполните. В вашем городе находится, на мой взгляд, лучший дирижёр современного мира. Грандиозная личность. Губернатор сказал, что сделает для этого всё необходимое. Нужно новое здание. Найдите архитектора. Я могу порекомендовать вам Жана Нувеля. Я с ним знаком. Мы с ним вместе работали, в Дохе делали Музей исламского искусства. Он величайший архитектор. Вам нужно пригласить человека, который создаст, откроет что-то сообразно таланту этого человека (Теодора Курентзиса - Прим. ред.). Вам нельзя пребывать в пермских лесах. Вы не провинция, поймите. Ещё недавно вся Россия смотрела сюда, когда у вас была большая культурная активность, выставочная, театральная деятельность. Художественная активность здесь была гораздо ярче, чем в Санкт-Петербурге.
За последнее время в российских регионах сменили нескольких губернаторов. Говорят, что новые губернаторы - это люди нового поколения: молодые, хорошо образованные, знающие несколько языков, умеющие грамотно вести диалог и т. д.
Хорошо, что Решетников - не из системы госбезопасности. Ему проще войти в контекст экономической жизни. Он же не как командир части, привыкший отдавать приказы на основании инструкции, полученной из дивизии. Который вдруг становится директором завода, где никому не прикажешь, где надо убеждать, доказывать, самому считать, спорить с инженерами, с комплектовщиками. А он умеет только отдавать приказы.
 Фото: Владимир Соколов
Фото: Владимир Соколов
И всё-таки, руководить некоторыми регионами приходят совершенно новые, современные управленцы. Раньше старались изыскивать их среди старых опытных номенклатурщиков. Сейчас что-то стало меняться. Это что-то значит?
Да, это „что-то“ значит. Потому что у Путина, безусловно, есть понимание того, что неизбежны изменения. Он знает, что происходит в стране. Он знает огромное число чиновников, исполнителей, которые его окружают, по именам. И всё про них знает. На мой взгляд, он мало кому может доверять. И для этого есть основания. Поэтому, если он предлагает этого человека (Максима Решетникова, - Прим. ред.), это говорит о том, что есть некая тенденция, некий путь, на который Президент встал. Потому что другое уже невозможно. Даже формально.
О „Перми-36“ как о части системы
Многие не понимают, почему в музее „Пермь-36“, посвящённом жертвам политических репрессий, на стенах, рядом с фотографиями „политических“ заключённых, висят фотографии обычных уголовников - убийц, грабителей, которые также сидели здесь. Что они делают в музее политических репрессий?
Сидят. Они тоже граждане страны. Беда-то одна. Что судьба уголовника, что судьба политического заключённого - это одна беда. Как нам отделить одно от другого, когда даже Президент порой говорит на „блатном“ жаргоне. Когда великого режиссёра Мейерхольда, старика, раздели догола и сапогами топтали половые органы. И мы знаем, кто это делал, и что с этими извергами потом стало... Это беда одна...Что значит „что они тут делают“? Жили они тут. Рядом - уголовники, изверги, и - политические. Но вина очень разная. Одни виноваты в том, что совершили преступление, а другие в том, что родились в этой стране в это время. Это их несчастье. А государству - всё равно. Для него они равны. А разве не так было? Вот и правильно, что в музее про эту систему они - рядом.
Я бываю в колониях, смотрю разную статистику. 98 % сидящих - это русские мужчины. В женских колониях почти такой же расклад. Представителей других национальностей нет или мало.
Вот заходишь туда, смотришь на эти лица, они проходят мимо. И каждый ловит взгляд, чтобы как-то зацепиться за тебя, остановиться, что-то спросить, поговорить. Так сложилось, я сейчас веду переписку с заключённым, который убил человека. Когда-то он работал на студии... Ему дали восемь лет. Олегу Сенцову дали 20 лет ни за что, а там - восемь. Сейчас он отсидел почти весь срок. И уже забыл, что совершил. Дай ему почитать дело, он не поверит, что это ОН убил человека. В запале, в раздражении. Жизнь в колонии привела его к оправданию себя. Вот такой „перевёртыш“.
Это типично, если мы не говорим о каком-нибудь маньяке?
Типично. „Стирание“ памяти происходит типично, как это ни странно, но я по некоторым актёрам сужу. К определённому возрасту они начинают думать о своей жизни как о неком мифе. Двух третей историй, которые они рассказывают о своих съёмочных и театральных делах, никогда не было. Сами приукрашивают истории на ходу, каждый раз добавляют новые детали.
Да... и надсмотрщики, начальники лагерей должны быть там. И их физиономии должны там [в „Перми-36"] висеть, и судьбы их. У меня один из актёров прослужил два года в колонии строгого режима, простоял на вышке. Стрелял в человека при попытке к бегству. Слава богу, не попал, но стрелял. Без злобы, без раздражения всё это было, потому что все понимают, каково там, и никто не хочет оказаться на их (заключённых - Прим. ред.) месте. Зло - оно растяжимо как резина. В этих колониях и сейчас, и тогда оно растягивалось до бесконечности. Человек совершил зло вот настолько, а наказание так разворачивалось, так растягивалось, что невозможно было остановиться.
Если такой музей делаешь, мудрость должна быть. Это музей о национальной беде. Политические заключённые - только одна часть большой проблемы. Если в музее будет не только одна часть, туда пойдут тысячи людей, потому что они начнут хоть что-то понимать.
К этому надо быть подготовленным.
К этому они будут готовы - к рассказу о криминале, о трудных судьбах люди всегда будут готовы. Они ждут этого.
 Фото: Владимир Соколов
Фото: Владимир Соколов
Если в музее будет рассказ и о тех, кто был по эту сторону колючей проволоки, и о тех, кто был по ту, о том как жили и те, и эти...
Тогда будет понятно, почему там так трудно жить. Будет понятно, почему „политическим“ было тяжело. И в какой степени, в каком смысле им тяжело. Потому что они, „политические“, разумные люди с самосознанием, с неистребимым человеческим достоинством. Они столкнулись с укоренённой дикостью, с укоренённой бесчеловечностью. Причём с двух сторон. С одной стороны, с государством через администрацию, а с другой стороны, с жесточайшей уголовной системой, которая бесконечно грязная. Бесконечно. Она загрязнённая всем - социальной пошлостью, юридической подлостью, физиологической пошлостью и кошмаром.
Ильдар Дадин рассказывает, что сдался единственный раз, когда ему сказали, что сейчас его изнасилуют в присутствии начальника колонии. Ведь это же обязательно случилось бы. Боже, боже, это ведь не при Берии, это сегодня, сегодня!!! Публично, открыто, в госучреждении... Боже, ты видишь это? И Дадин прекрасно понимал, что никогда этого не забудет, как бы ни сложилась его жизнь впоследствии. Он как человек никогда этого не забудет. В нём сломают что-то такое, что важнее всего остального. Но это же абсолютно нормально для русской тюрьмы. Там все границы перейдены. И тогда это было. Правда, в брежневский период надсмотрщики были все же физически осторожнее с политическими. Но уголовники-то были те же. Та же самая кошмарная сексуальная жизнь в этих лагерях. Такая, что и ни описать, ни рассказать, что там происходит.
Всё это ведь с чего-то началось.
Это началось с безнадёжной борьбы заключённых за выживание и сохранение хоть какого-то достоинства. Безнадёжной, потому что каждый из этих заключённых понимал, что его достоинство и жизнь только в его руках. Правильно он поступит или неправильно. Наступит на другого, чтобы спасти себя? Так было. Сама тюремная система во многих странах строится на унижении достоинства и физиологии человека.
Так проще, наверное.
Да, так проще, конечно. И, в конце концов, иногда это единственно возможная форма существования. Она за пределами нравственного и безнравственного. Это какая-то новая категория, о которой в суете экономической, политической, конфессиональной борьбы даже не думают. Она уже возникла. Это третья категория. Как она называется, не знаю, но она уже есть. Вся литература, всё освоенное головой и сердцем пространство, на той или на этой стороне. Достоевский первым решился сделать уголовника легендарной фигурой. Эта лестница, по которой Раскольников идёт наверх, этот гениальный, грандиозный по художественному содержанию монолог - он сделал заурядного, элементарного уголовника символической фигурой. Убийство стало предметом гуманитарного исследования. Наверное, такого до Достоевского не было? Но и Достоевский, когда дошёл до некоего финала, понял, что ответа-то у него нет. Покаяние после ссылки... Но всё равно - он убил. Куда от этого деться? Было покаяние, не было покаяния, он всё равно это помнит. И душа его помнит, и голова. От этого уже никуда не деться. И он сам по-настоящему, для себя не решил правильное это убийство или нет.
Такая тяжёлая тема...
Да она не тяжёлая. Она требует разумности, масштабности. Это не провинциальная тема. И музей [Пермь-36] не имеет права быть провинциальным. С дрязгами провинциальными, которые заслоняют главное. Нельзя так. У музея есть все шансы „вырасти“, стать мировым по значимости. Об этом надо думать. И ещё раз - благодарность тем, кто когда-то эту работу в „Перми-36“ начал, и тем, кто её теперь продолжил.
 Фото: Владимир Соколов
Фото: Владимир Соколов
Немного о Перми
Bы приехали и многое привезли в Пермь. Увезёте что-то для себя из Перми?
Прежде я был здесь дважды. Оба раза зимой, коротко. Можно сказать, что город я увидел в первый раз. Своеобразный ландшафт. В городе есть какая-то неуральская сложность. Наступление архитектуры, планирование города не примитивное. Советская власть что-то успела здесь дорушить, но Пермь оказалась для неё твердым орешком. Пермь пострадала меньше, чем Екатеринбург. Я там был, когда начинались все эти кошмарные „градостроительные“ идеи. Там сносили целые кварталы с поразительной архитектурой. У вас есть ещё какие-то районы, которые дают атмосферу всесезонной жизни. И береги вас всех Бог.
О сложном творческом пути и любви к Японии режиссер Александр Сокуров рассказал в интервью Татьяне Элькиной.
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«Начнем с премьеры. В Петербурге Вы представляете видеоверсию спектакля «G0. GO. GO», который Вы ставили для театра «Олимпико» в Италии. Итальянская пресса об этом спектакле написала следующее: «На сцене звериное человечество. Власть является болезнью. Варварство и цивилизация смешиваются, и только искусство помогает понять, как обуздать эпидемию власти». Я правильно понимаю, что это некое продолжение тем, затронутых Вами в «Молохе», «Тельце», «Солнце» и «Фаусте»?»
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ,«Только там она персонифицированная. Конкретные были люди, конкретные персонажи с конкретными характерами, судьбами. А здесь идет речь о состоянии всего общества или опасности, которая есть у современной цивилизации. Все подвержены дегуманизации и моральному самоуничтожению. Европейская цивилизация - явление сложное и очень устойчивое. Она может сама себя уничтожить, даже войны не надо. Может быть, в результате какой-то внутренней слабости своей, отсутствия мужества, отсутствия последовательности. В результате слишком агрессивного политического настроя общества.
Если говорить о российской цивилизации – то же самое. Когда в жизни общества очень много политики, когда политики определяют ориентиры развития общества, ориентиры развития культуры, это всегда плохо, потому что политика невротична, она никогда не говорит о вечном и о преданности. Политика - нечестная дама, сегодня одно настроение, завтра - другое, сегодня одни цели, завтра - другие цели. В этом смысле культура гораздо более устойчива. Она предана народу. Говорят, что армия никогда не предаст народ. Это неправда. И армия может проиграть в войне, и государство может рухнуть, а культура всегда с народом останется, даже если неприятель захватывает земли, а признаки культуры, национальной культуры будут народ спасать».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«Исследованиями политиков, которые своими политическими решениями влияли на мир и культуру, Вы занимаетесь очень давно. Фильмы в большинстве своем Ваши этому посвящены. Если говорить о вашей театрологии, в одном из интервью Вы сказали, что ее образ у Вас родился еще в 1987 или 1989 году. Какие обстоятельства Вас к этому подтолкнули?»
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«Наверное, генетический интерес к истории. Я еще со средней школы утонул в страстях исторических, я читал много и очень рано понял, что нет одной грани исторического течения и одновременно с тем оно очень простое. Меня стали увлекать какие-то художественные обобщения, тогда пришло представление о том, что надо попробовать, что нужно создать программное сочинение, что нехарактерно для кино, создать в четырех частях некое повествование, которое объединено единой темой, хотя персонажи разные. Это возникло у меня после окончания исторического факультета университета. Но советские политические обстоятельства предполагали, что можно это сделать».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«Героями вашего программного произведения стали Гитлер, Ленин, Херохита и Фауст, кто-то из них у Вас вызывает сожаление или сострадание?»
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«Вызывают сострадания все, потому что хотим мы того или нет, даже самый-самый страшный большой злодей есть человек. И если бы эти злодеи, которые совершили столько преступлений, скверных поступков, были бы абсолютно искусственными явлениями, были бы к нам занесены с другой планеты, было бы очень просто – мы бы просто удалили это зло и все. Но у них, у всех, есть внутренние человеческие качества, значит, вся эта инфекция сидит внутри человека, и она будет сидеть. Нацизм и тоталитаризм, все то, в результате чего совершаются глобальные преступные деяния, войны - все нас сопровождает, во всем выражается природа человека».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«Я бы говорила о каждом из четырех персонажей, но спрошу только про японского императора Хирохито. Историки до сих пор спорят о том, чем было вызвано его политическое решение в 1942 году, его поведение во время Второй мировой воны. Кто-то считает, что он жертва японской военной машины, кто-то считает, что он все-таки диктатор. Вы как историк что думаете?»
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«В нем было универсальное качество, воспитанное как у монарха неограниченными возможностями в неограниченной власти, но в данном случае мы имеем дело с человеком, у которого личностную структуру составляла гуманитарная часть жизни. Он был биологом, ихтиологом. Он занимался наукой, и политика не представляла для него какой-то жизненной страсти. И надо сказать, что он единственный из таких больших преступников сам осознал ошибочность и сделал шаг в сторону, выведя страну из состояния войны. Сталин и Ленин, понимая, какие тотальные жертвы несет народ в процессе правления, не сделали никаких поправок и не признали свои заблуждения, Гитлер – тем более. Погибали сотни немецких солдат, тысячи-тысячи наших соотечественников гибли в Берлине, а он маниакально не сдавал город и не сдавался. Никто из них не хотел уступить. Только Хирохито сделал шаг в сторону, понимая, что он может быть привлечен к суду и казнен.
И еще одно. Я много спорил с нашими дипломатами и говорил с учеными и специалистами, политиками в Японии разных толков (правых, левых, центристов) о том, как я русский воспринимаю некоторые обстоятельства поведения Хирохито. Попробуем представить, если бы он начал войну с Советским Союзом, что было бы с нами? В каком-то смысле я говорю это очень относительно, потому что в историческом процессе все не так просто, он является спасителем этой нашей ситуации».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«Из всех Ваших героев он вызывает у Вас наибольшее уважение?»
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«Может быть, потому что к этому фильму я готовился 10 лет. Я много бывал в Японии, жил там и встречался с персоналом скрытно и явно, который с ним работал, потому что это не разрешено было. Встречался со специалистами, работал в архивах. 10 лет я готовился и как-то вошел в это глубоко. Я люблю Японию, просто очень. Знаю, что японцы тоже народ непростой, но они ко мне относятся как-то совершенно удивительно. И моя благодарность бесконечна. Потом они пришли ко мне на помощь, я уехал работать к ним туда тогда, когда здесь ничего невозможно было делать. Не было денег, студия «Ленфильм» была практически закрыта, и я делал документальные картины, путешествуя по Японии».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«Говоря о вашем кинематографе, Вы нередко его сравниваете с такой медицинской моделью. Ваша цитата: «Мы – сотрудники больницы, к нам привозят группу больных. Многие из них такие мерзавцы, что к ним прикоснуться страшно, но мы должны принять их, поставить диагноз, вылечить и вернуть в общество», – с диагнозом понятно, но как их в общество вернуть».
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«Художественный метод – это не прокурорское расследование, мы всегда ищем человеческие корни, в любой ситуации. Нам всегда интересен человек, как бы он ни был скверно настроен, потому что когда-то он был мальчиком, девочкой и был ангелочком, потом что-то произошло, иногда понятно что, иногда - нет, и человек превратился в этого изверга. Пусть судит общество, пусть судит Бог. Мы вылечить не сможем, пролечить немного сможем, остановить агрессию, поставить диагноз мы сможем и сможем рекомендовать обществу лекарственную блокаду. Но если мы начнем судить, в обществе не останется сил, которые бы занимались деликатным изучением человеческой природы».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«Вы в своем кино изучаете человеческую природу, причем иногда делаете это с помощью таких технических хитростей, что у зрителей возникает вопрос: «Как это снято?». В «Фаусте» Вы снимали некоторые сцены с помощью зеркала 6 на 8 метров. Как это возможно?»
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«Ну не только в «Фаусте». Мы снимали и в «Тельце», и в фильме «Солнце», где я сам был оператором-постановщиком. Мы тоже снимали с помощью специальных оптических систем: стекол, зеркал, с помощью новых объективов, которых раньше никогда не было. Это нужно, чтобы создать особенную среду на площадке. Не буду раскрывать все свои профессиональные секреты».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«Про «Русский ковчег». Фильм снят одним кадром, но были те, кто говорили, что там все-таки есть одна склейка. Врут?»
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«Нет, склейки не было. Там не было необходимости в этом. Была цветокорректировка, так как условия экспонирования в таких картинах очень сложные. Мы не можем поставить в Эрмитаже столько света, сколько нам надо. Когда мы приехали в Германию, мы собрали самых лучших колористов, которые исправляли все вопросы, связанные с экспонированием. Трех дублей не было. Был первый раз, когда мы включили камеру, там начинается с улицы с заходом внутрь Эрмитажа. Камера остановилась, потому что температура была 26 градусов мороза. Но второй раз уже было нормально. И то первая остановка была просто техническая. Такого, конечно, никогда не было в кино, чтобы полтора часа непрерывные действия».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«Пленка была оправлена на склад института, чтобы смыть негатив. Мы ночью вскрыли склад, подменили коробки и забрали пленку. Дальше просто прятали, прятали, прятали по Ленинграду с квартиры на квартиру, пока не пришло время с возможностью передать ее «Ленфильму». Это уже произошло во время перестройки».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«Вам было чуть меньше 27 лет, когда работали над фильмом. Что с Вами такое происходило, что Вы сделали именно такую картину?»
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«Я таким был. Плохо ли, хорошо ли – это такая моя судьба. Такая моя жизнь. К сожалению, мне никогда ничего не давалось просто. Я никогда не был награжден жизнью какой-то помощью, поддержкой, хотя были случаи, когда мне помогали».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«Это какое-то глобальное предчувствие беды?»
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«Не знаю, я не готов отвечать на этот вопрос. Стараюсь об этом не думать, старюсь не анализировать это».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«В интервью Софико Шеварднадзе Вы сказали, что дважды задумывались о самоубийстве: когда были под следствием КГБ и когда у Вас начались большие проблемы со зрением. История с КГБ из-за какой картины?»
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«Из-за «Образа жизни», из-за связи с Тарковским, из-за попыток вывести меня за пределы Советского Союза».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«Что Вас остановило?»
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«Наверное, сила характера, несмотря на то, что со мной происходили все эти тяжелые события, каждый раз появлялись люди, которые в силу своей возможности помогали и протягивали руку помощи. Таким человеком был Владилен Кузин, директор студии документальных фильмов, и Галина Познякова, главный редактор студии. У них из-за меня было много проблем, но они всегда давали мне возможность работать, если бы не их поддержка, я не знаю, что было бы со мной».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«Вы понимали, что рискуете не только собой, но еще и другими людьми?»
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«Я это понимал и всегда старался помочь им как-то в решении этих самых вопросов. Если надо, я делал какие-то дубль-фильмы, чтобы прикрыть производство. Я студию никогда не подводил. Только на «Ленфилтме» была большая скандальная история. Моей отдушиной в те непростые времена была только работа, даже если не было уверенности, что это дойдет до зрителя. Я считаю, всегда есть смысл стараться, трудиться и быть верным принципам своим каким-то».
ТАТЬЯНА ЭЛЬКИНА, корреспондент:«На вопрос Владимира Познера об элитарности Вашего кино, Вы сказали, что виноваты в том, что не можете быть другим. Есть очень много людей, которые хотят Вас смотреть, но не могут, потому что не понимают. Как вас понять?»
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, режиссер, народный артист РФ:«Не надо заставлять себя меня понимать. Я не заставляю себя читать книги, которые мне не интересны, которые я не чувствую. Вопрос не в том, что меня не понимают, значит у этих людей нет эмоционального, личностного контакта со мной. И это не беда, и слава Богу. Кино не является главным искусством. Есть литература, музыка, и, пожалуйста, делите себя с этими видами. Мы вместе, если есть какое-то чувственное, эмоциональное подключение, нет – значит мы разные. На разности людей строится жизнь, на сложных людях строится жизнь. Искусство всегда опирается не на народ, а на отдельно взятого человека».
Этот и другие материалы смотрите в группе программы
https://www.сайт/2017-02-09/rezhisser_aleksandr_sokurov_idet_k_tomu_chto_v_rossii_razrazitsya_religioznaya_voyna
«…Запустится маховик разрушения страны»
Режиссер Александр Сокуров: идет к тому, что в России разразится религиозная война

Всемирно известный режиссер Александр Сокуров никогда не скрывает гражданских и политических взглядов, даже если предупредительно просят. Из-за этого потерял немало полезных знакомств и нажил неприятелей.. Мы поговорили о Путине и Рамзане Кадырове, православии и исламе, искусстве и цензуре.
«У Путина свой кинематографический биограф — Никита»
— На фестивале «Дни Сокурова» в Ельцин Центре демонстрировался ваш фильм о Борисе Ельцине «Пример интонации». Можете в нескольких словах выразить интонацию Ельцина? Вы ведь общались, вас связывали дружеские отношения.
— Если бы я мог это выразить несколькими словами, то, наверное, не стал бы снимать фильм. С Борисом Николаевичем у меня связано много интонаций. И то, что я показал, явно недостаточно. Я лишь чуть-чуть прикоснулся к этой теме. К тому же о нем снимал не только я. В Москве он активно шел на контакт с другими режиссерами и журналистами, которые казались ему и Наине Иосифовне более простыми и доступными. Я же был для него слишком заумным персонажем. Впрочем, со мной у него всегда была интонация понимания, терпения, благородства, уважения и даже какой-то мягкости. Но это мое личное, частное ощущение, потому что он не совсем таким был, поскольку занимался жестким трудом.

— Вы неоднократно и довольно откровенно, по вашему признанию, беседовали с глазу на глаз и с нынешним президентом. У вас после этих встреч появилось понимание, какая «интонация» у Путина? Вам было бы интересно снять фильм о нем?
У Владимира Путина есть свой кинематографический биограф — Никита. Он уже снимал о нем фильмы. В общем, слава Богу, это место занято. Хотя я знаю многих режиссеров, которые бы хотели встать в этот ряд, просто самому президенту это не нужно.
— Вы говорили, что в личных беседах он предстает иным, чем в публичном пространстве…
— Я вас уверяю, что даже Жириновский в публичном пространстве выступает в одной ипостаси, а в личном общении он абсолютно другой. И Борис Николаевич бывал разным. Я порой удивлялся, видя его по телевизору. Не узнавал его, настолько это был другой человек. Вообще, любая масштабная личность в камерном общении выглядит иначе: уходит спесь, желание отвоевать себе особое место в историческом или культурном пространстве. В общении один на один это всегда другие люди. К большому сожалению.
— Вам не кажется, что современные мировые лидеры мельчают прямо на глазах? Достаточно сравнить руководителей ведущих европейских государств и США с теми, кто стоял у руля полвека назад, сравнение будет явно не пользу нынешних. Как думаете, с чем связан кризис политических элит?
Как режиссер Александр Сокуров поговорил с людьми о Борисе Ельцине
— Действительно, деградация налицо. А связано это с тем, что они не являются свидетелями больших исторических процессов. Жизнь наша, безусловно, остается сложной, однако нынешние лидеры не в состоянии ни увидеть этого, ни предвосхитить. О том, что война с Украиной неизбежна, я сказал еще лет десять назад. Многие тогда покрутили пальцем у виска, а для меня это было совершенно очевидно. И я удивляюсь, почему это было не очевидно для российских и украинских руководителей. Это говорит о том, что нынешнюю политическую элиту составляют близорукие люди. Что уровень культуры, интеллекта, да и вообще масштаб личности сегодня нивелируется. Посмотрите на нынешнего канцлера Германии. Ну что это такое? Просто прискорбное зрелище. А итальянский премьер или последние президенты Франции...
— Раз вы предугадали украинские события, позвольте спросить: мирный выход, по-вашему, еще возможен? А то, если послушать наших политических обозревателей, так точка невозврата уже пройдена…
— Надеюсь, когда-нибудь эти политические обозреватели предстанут перед Гаагским трибуналом как провокаторы, которые нанесли огромный урон гуманитарному пространству России и всему российскому народу. Эти радио и телевизионные глашатаи занимаются тем, что во время пожара разбрасываются спичками. На месте власти я бы обратил особое внимание на этих людей, создающих предпосылки для международных конфликтов. Они должны быть наказаны. Это же просто преступники, которые работают и на государственных, и на частных каналах. И там, и там нет никакой ответственности за подобное поведение. Если сменится политический вектор, все эти комментаторы вмиг перестроятся. Мы это хорошо увидели на примере конфликта с Турцией. Они громче всех кричали про убийц российских летчиков, но как только им сказали, что Турция перестала быть врагом №1, они моментально сменили риторику на противоположную. Это так вульгарно и пошло. Они хуже женщин, которые себя продают.
— Женщин с пониженной социальной ответственностью, как теперь принято говорить.
Да, я проституток имею в виду. Но когда женщина отдает себя мужчине, в этом есть хоть какая-то естественность, а в поведении этих комментаторов нет ничего естественного и органичного.

— С Грузией у России был открытый военный конфликт. Однако российские туристы с удовольствием посещают Грузию и не сталкиваются с агрессией в свой адрес. Сколько времени должно пройти, чтобы можно было планировать отпуск в Киеве?
Действительно, я недавно был в Грузии и ничего кроме радушия и гостеприимства там не встречал. А в случае с Украиной это произойдет нескоро. Слишком сильны взаимные противоречия и обиды. Дело в том, что русские почему-то уверены, что они один народ с украинцами, а это глубочайшее заблуждение. Украинцы давно мечтают оторваться от русского влияния и жить в стороне от нас, перестать быть тенью России. Советская практика сблизила наши народы, но все-таки мы всего лишь соседи. Мы не в одной квартире живем.
Представьте, что у вас есть соседи, и вы вдруг начинаете объявлять их своими братом и сестрой. «С какой стати? — говорят они. — Мы просто соседи!» — «Нет! Мы живем на одной лестничной площадке, мы уже родственники!» Но ведь соседство не предполагает, что мы должны меняться мужьями, женами или детьми.
У украинского народа свой исторический путь — крайне сложный, иногда даже унизительный. Их история — это всегда предмет вмешательства извне, когда твою страну постоянно кто-то делит, насильно приобщает к своей культуре. Тяжелая жизнь у украинского народа, тяжелая. А тут еще и ума украинской политике явно не хватает. В тяжелый исторический момент народ не выдвинул масштабных политиков, которые смогли бы деликатно выйти из сложных конфронтационных обстоятельств. Аккуратно разделить «сиамских близнецов», которыми стали Россия и Украина, сросшиеся экономиками и национальными особенностями. Но не нашлось политиков, которые, даже с учетом накопившегося раздражения к русским и давления националистов, неуклонно и деликатно проводили бы все процессы. Значит, не созрели эти институты власти. Ведь для того, чтобы выстраивать взаимоотношения с таким крупным и непростым соседом, как Россия, необходима мудрая политическую элита. Ее на Украине, к сожалению, пока нет. Потому что, в отличие от Грузии, у украинцев нет опыта государственности и государственного управления.
Да и потом, мы же все-таки сильно отличаемся от грузин — у нас другой алфавит, абсолютно другая культура, традиции, язык, темперамент, да все у нас другое. А с Украиной, безусловно, присутствует опасная видимость общности. Но это только видимость, и я, часто бывая на Украине, видел мощную энергию отторжения и желания независимости от России. Чем ближе народы, тем тяжелее их взаимоотношения. Сами знаете: наиболее болезненные конфликты происходят именно между родственниками.

— Именно поэтому вы предлагали на конституционном уровне закрепить невозможность военных действий с соседними странами?
— У нас должно быть категорическое условие: не воевать с соседями. Это касается и Прибалтики, и Украины, и Казахстана. Я бы в Конституцию внес принцип обязательного мирного сосуществования со всеми странами, с которыми мы имеем общие границы. Даже если на нас напали, мы должны находить в себе силы не применять армию, не вторгаться на чужую территорию. С соседями можно ссориться, но воевать нельзя.
— Но ведь во всем мире страны, если с кем-то и воевали, то чаще именно с соседями. Германия неоднократно воевала с Францией, а в истории отношений Франции и Англии даже столетняя война была. И ничего, как-то находят общий язык.
— Не будем забывать, что Германия никогда не входила в состав Франции, а Франция в состав Англии, хотя воевали все время по территориальному принципу. Конечно, территориальные претензии всегда существуют. Та же Италия очень мечтала получить от Гитлера часть французских земель. Но никто никогда не входил в состав друг друга, как в Советском Союзе. В Европе только одно исключение на этот счет — Австро-Венгерская империя.
«Мы имеем дело с бомбой, которая может взорваться в любой момент»
— Александр Николаевич, вы всегда были в стороне от политической жизни. Говорили, что к вам даже ни разу ни одна партия не обращалась с предложением войти в ее предвыборный список. И вдруг на парламентских выборах в сентябре прошлого года вы возглавили петербургский список партии «Яблоко», при этом оставаясь беспартийным. Почему это произошло именно сейчас?
— У меня лопнуло терпение. Из всех партий или групп, профессионально занимающихся политикой, только «Яблоко» занимаются градозащитной деятельностью в Санкт-Петербурге. Именно благодаря «Яблоку» я сам очень многое понял в градозащитной работе («Группа Сокурова» занимается защитой исторического Петербурга. — Прим. ред.). Они ведь всегда использовали профессиональные инструменты. Например, организовывали большие судебные процессы против «Газпрома», на что питерское градозащитное движение не решалось. Они нам помогли, и в итоге практически все суды выиграли. Ну и потом, там есть люди, к которым я отношусь с уважением. Хотя, конечно, у меня не было никаких иллюзий. Я понимал, что это непроходной вариант. Но моя позиция была: хватит сидеть на кухне — нужно показать свою позицию и поддержать тех, кто думает так же. Конечно, я усложнил себе жизнь, но не жалею. За все надо расплачиваться. В том числе и за такое политическое поведение.
 «Чечня — регион России, который России не подчиняется. Там своя армия, и нужен только сигнал, чтобы двинуть этих вооруженных людей в какую-то сторону. И я уверен, что столкновение неизбежно»
«Чечня — регион России, который России не подчиняется. Там своя армия, и нужен только сигнал, чтобы двинуть этих вооруженных людей в какую-то сторону. И я уверен, что столкновение неизбежно»
— Вы возглавляете общественную группу активистов-градозащитников, ведущую диалог с властью о защите от разрушения старого Петербурга. В прошлом году вы написали письмо губернатору Санкт-Петербурга Полтавченко с просьбой не называть мост через Дудергофский канал именем Ахмата Кадырова, но к вам не прислушались.
— Точка в этом вопросе, к сожалению, поставлена. И принятое решение я рассматриваю не иначе как террористическую деятельность на территории России. Эта угроза исходит от чеченского сектора. Мы имеем дело с бомбой, которая может взорваться в любой момент. На мой взгляд, это реальная военная угроза. Чечня — регион России, который России не подчиняется. Там есть своя армия, и нужен только сигнал, чтобы двинуть этих вооруженных людей в какую-то сторону. Для меня очевидно, что это находится за пределами Конституции моей страны. И я уверен, что столкновение неизбежно по целому ряду причин.
Я, конечно, надеюсь, что президент понимает, кто такой Рамзан Кадыров, и границы его возможностей, наверное, определены. Но при этом не сомневаюсь, что если от него последует указание вооруженным людям, то в целом ряде российских городов жертвы будут большие.
— В свое время вы написали письмо Александру Хлопонину, который был представителем президента в Северо-Кавказском округе, где предлагали под эгидой государства собрать серьезную конференцию православного и мусульманского духовенства с постановкой политических вопросов…
И, разумеется, не получил никакого ответа. Никто не обратил на это внимания. А между тем мы видим, что происходит. Молодые люди, вырвавшиеся из кавказских городов, ведут себя вне всяких норм не только жизни русских, но и вообще вне всяких моральных норм. А правоохранители в Москве парализованы страхом перед Грозным, ведь именно там выносятся смертные приговоры. И если в Грозном человеку вынесут смертный приговор, его уже никто не сможет защитить.
 «Почему-то, как только наши прекрасные женщины прорываются в политическую элиту, ведут себя там агрессивней мужчин. Самые жестокосердные парламентарии в Европе — именно наши женщины-депутаты»
«Почему-то, как только наши прекрасные женщины прорываются в политическую элиту, ведут себя там агрессивней мужчин. Самые жестокосердные парламентарии в Европе — именно наши женщины-депутаты»
— Мало кто отважится говорить об этом вслух. И понятно почему. Вы ощущали на себе эту опасность?
— Конечно. Но позвольте не конкретизировать. Я понимаю, что делаю и говорю и что за это придется отвечать. А федеральной власти необходимо ответить себе на вопрос: является ли Конституция Российской Федерации законом, действующим на территории всего российского государства? Если да, то должны быть приняты соответствующие меры. Однако мы видим, что этот документ уже не работает. Может, готовится новая Конституция? Даже есть предположение, кто готов возглавить Конституционную комиссию - это одна из самых одиозных и агрессивных женщин в российской политике.
— Ирина Яровая?
— Да. Женщинам вообще не везет в российской политике. Думаю, может их не допускать туда? Почему-то как только наши прекрасные женщины прорываются в политическую элиту, ведут себя там агрессивней мужчин. Самые жестокосердные парламентарии в Европе — именно наши женщины-депутаты.
— Чем вы это объясняете?
— Одним словом тут не объяснишь. Дело в том, что роль мужчины в России давно нивелирована. Это видно и по роли отцов в семьях, и потому, как развиваются наши мальчишки в школах. Считаю, пора уже возвращаться к раздельному образованию — отдельно для мальчиков и девочек.
— А весь XX век прошел в борьбе за эмансипацию женщин.
— Но если женщины хотят равных прав, то тогда пусть их берут с равной ответственностью. А то ведь у нас до сих пор при судебных разбирательствах ребенок всегда остается с матерью, у отцов в этой борьбе нет ни единого шанса. Затем муж должен оставить еще и жилье, а сам пусть живет, как знает. Если мы равны на бумаге, то пусть будет так и в житейской практике.
Однако все это детали, а главное — психофизическая сдача позиций всей мужской части населения. И начинается это со школы. А если спросите, какая часть мужского населения в России самая слабая, не сомневаясь, отвечу — наши военные. Это наиболее изнеженная категория мужчин. Даже офицеры спецслужб с большим трудом психологически адаптируются к новым бытовым условиям — настолько военные привыкли к комфорту.

— Довольно неожиданное заявление от сына кадрового военного, который все детство провел в военных городках. Неужели уже тогда начали замечать что-то подобное?
— Мой отец все-таки был фронтовиком, а у того поколения была другая беда — пили все. Это был бич военных городков. И дома пили, и на службе часто появлялись нетрезвые. Конечно, были гарнизоны, которые не переходили определенных границ, но в значительной степени это всех касалось… Пьянство вообще огромная проблема для нашей страны. Меня размах этого явления поразил еще в студенчестве в Горьком, а когда учился уже в Москве, то там целые факультеты находились в полуалкогольном состоянии. Во ВГИКе пили просто невероятно, формы приобретали порой просто какие-то дикие масштабы.
Именно с алкоголизмом я связываю деградацию русского мужского населения. Ведь в мусульманских регионах такой проблемы нет. Религия там помогает сохранять национальный уклад. А поскольку русские давно нерелигиозный народ, а наш национальный уклад, тесно связанный с сельским образом жизни, был разрушен большевиками, то теперь у нас словно нет опоры, которая бы остановила это падение в бездну.
«Гигантская ошибка — отдавать часть власти православной церкви»
Александр Николаевич, на «Эхе Москвы» вы как-то сказали: «Наша огромная страна разорвана. Энергетики общей нет. Идея федерализма во многом себя изжила. Надо менять федеративный принцип». На какой?
— А вы сами что думаете по этому поводу?
— На Урале уже была попытка поменять федеративный принцип, создав в первой половине 1990-х Уральскую республику…
— Отлично помню реакцию Ельцина, он только при мне несколько раз общался по телефону с Росселем по этому поводу. И?..
— Тем не менее у этой идеи хватало сторонников.
— И в Уфе, и в Иркутске я тоже встречал сторонников подобного федерализма. Да и сегодня эта идея жива. Скажем, в Казани вот-вот примут решение поменять кириллицу на латиницу, что окончательно оторвет нас друг от друга. Это происходит по всей стране. Я это вижу.
 «Государство абсолютно преступно распоряжается взаимоотношениями с религиозными культами. Православная церковь — люди, мягко говоря, странные и политически неосторожные»
«Государство абсолютно преступно распоряжается взаимоотношениями с религиозными культами. Православная церковь — люди, мягко говоря, странные и политически неосторожные»
— Важно, чтобы в правительстве видели. И думали, искали способы скрепить страну, пока не стало слишком поздно. Граждане Российской империи, а потом и Советского Союза ощущали себя единым целым, хотя никого интернета или телевидения не было…
А вы сами как ответите на этот вопрос?
— Ну, я могу отвечать только за то, что помню лично. Думаю, людей скрепляла мысль о всеобщем равенстве, неких социальных гарантиях, идея интернационализма, общее культурное пространство, доступное бесплатное образование…
— Я бы даже сказал равнодоступное качественное образование, которое человек мог получить и в столице, и в маленьком городе, и в глухом ауле, и в рязанском селе. В принципе, это было близко к осуществлению. А сегодняшнее образование — сословное. Так у нас никогда никакой Шукшин не появится: в современных условиях он не смог бы получить образования. Все мои попытки противостоять оплате за высшее образование привели к тому, что я испортил отношения с большим количеством чиновников и ректоров... В общем, вы сами ответили на свой вопрос, достаточно точно все сформулировав.
— Но если эти «скрепы» сегодня не работают, устоит ли Россия с нынешними «скрепами»?
— В чем я согласен с коммунистами, так в том, что церковь должна быть отделена от государства. Нынешнее же государство абсолютно преступно распоряжается взаимоотношениями с религиозными культами. Мы совершаем гигантскую ошибку, отдавая часть власти православной церкви. Они люди, мягко говоря, странные и политически неосторожные.
Как только будет принято решение о создании православной партии, которая станет одной из официальных государственных партий, запустится маховик разрушения страны. Все идет к тому, и Русская православная церковь собирает имущество, чтобы эта партия была богатой. Но ведь следом появятся крупные мусульманские партии, и тогда вопрос о существовании Российской Федерации будет снят с повестки дня.
Это же нетрудно предвидеть: если на определенной территории православная религиозная сила получает в подарок от государства часть политической власти, то, соответственно, в других местах мусульманское население совершенно справедливо потребует часть политической власти для своих религиозных организаций. Поверьте, мусульмане в этом вопросе ни в чем не уступят. И когда интересы православия и ислама войдут между собой в политическое противоречие, начнется межрелигиозная война — самое страшное, что вообще может быть. В гражданской войне можно все-таки договориться, а в религиозной бьются до смерти. Никто не уступит. И каждый будет по-своему прав.

— В одном интервью вы говорили: «Мы чужие в европейском пространстве. Чужие, потому что большие — по размеру страны, по масштабу и непредсказуемости идей». А в другом восклицаете: «А разве русские не европейцы? Разве нас не воспитала Европа?»
— Здесь нет противоречия. В одном случае я говорил о культуре, в другом — о способах поведения. Но, безусловно, Россия цивилизационно больше связана с Европой.
— А как тогда воспринимать нынешний разворот на Восток?
— Это просто глупость, вот и все. Мало ли глупостей совершало российское государство, которое по-настоящему и создаться еще не может? Мы то общественный строй меняем, то с соседями воюем, то зажигаемся какими-то сумасшедшими идеями… А государство — это в первую очередь традиция, опыт, проверенный временем и подтвержденный национальным согласием. Мы же согласие даже в мелочах найти не можем.
Вот у вас в Екатеринбурге на городском пруду собираются строить храм, хотя часть общества против. А вот неплохо бы посмотреть, как в Германии решают подобные вопросы. Там, если хотя бы малая часть населения против, решение откладывается. Таким образом, они защищают себя от скоропалительных шагов. Разумности и взвешенности российскому государству не хватало всегда, не хватает и сегодня.
«Наши мусульмане молчат и ждут, где вспыхнет и на какую сторону встать»
— Александр Николаевич, вы говорите, что нужно устанавливать жесткие границы в отношениях власти и религии, но, с другой стороны, вам понравилось в Иране, хотя это государство вряд ли можно назвать светским…
— Иранцы — шииты, а это совершенно особая ветвь ислама. По моим впечатлениям, она гораздо мягче. И все, что нам говорят об иранском режиме, не совсем правда. Я общался там с разными людьми и скоро снова туда поеду. Считаю, что нужно изучать иранский опыт. Они оказались в полной изоляции, но не деградировали, а, напротив, доказали, что все возможно развивать в рамках одной самодостаточной нации — экономику, военную и химическую промышленность, сельское хозяйство, добычу углеводородов и научные исследования… Они даже фильмов снимают в несколько раз больше, чем Россия. Причем очень хороших.
В общем, эта поездка натолкнула меня на множество размышлений о развитии и силе мусульманского мира. На него необходимо обратить серьезное внимание. Он энергичен и уже не готов оставаться в рамках своего пространства. Мы должны понимать, что он будет переходить границы и расширяться.

— Это уже активно происходит. И вы бьете тревогу, говоря, что ни в коем случае нельзя допускать смешения культур. Но ведь этот тезис противоречит нынешним официальным европейским ценностям, нацеленным на мультикультурализм, открытые границы, политкорректность.
— Европу сегодня губит боязнь признать, что национальное выше интернационального. Я называю это инфекцией. Просто попала инфекция в организм, и он заболел. Для того, чтобы христианский и мусульманский мир существовали в согласии и гармонии, надо провести четкую границу, через которую переходить нельзя ни одной из сторон. Мы не должны допускать смешения культур. Бесконфликтно это происходить не может, потому что культура — это код, мировоззрение. А второе правило — не нарушать нормы корневого народа. Должна быть скромность гостя, а ее, как правило, нет. Нельзя сказать, что Европа исчезнет, если везде появятся мечети. Но культура, без всякого сомнения, погибнет.
Европейцы забывают, что цивилизацию необходимо охранять, беречь это сочетание национальных и христианских норм. Европейский мир накопил огромный опыт социализации, разнообразных политических компромиссов и политических практик. И способность людей к качественному труду. Ведь главное, что привлекает арабов и африканцев в Европе, что можно приехать на готовенькое. Почему-то они не хотят бороться за создание своих качественных государств. Они не будут этого делать, а желают ехать туда, где уже что-то сделано. Но поскольку у них нет навыков ассимиляции, нет привычки уважать иные культурные и религиозные принципы, то, естественно, нынешняя ситуация в Европе приведет к крупным конфликтам и войнам на территории европейских стран.
В общем, нужна дистанция, благородная дистанция между народами. Или под европейской культурой можно подвести черту и готовиться к решительному видоизменению всего европейского уклада жизни. Или надо сопротивляться, или согласиться, что проиграем.
— А как сопротивляться, если вы сами говорите, что всё чаще сталкиваетесь на Западе с цензурой?
— К сожалению, это правда. Сегодня на Западе люди гораздо больше зависят от власти, нежели 5-7 лет назад. Не раз европейские журналисты признавались мне, что редакторы не всегда разрешают публиковать то, что они написали. Мои интервью там теперь подвергаются цензуре, а телеканалы нередко отказывались от тем, по которым мне хотелось бы подискутировать. В Европе идет деградация демократических традиций.
 «Европе пора понять, что есть куда более опасный противник, чем Россия — это мусульманская революция. Как когда-то большевизм»
«Европе пора понять, что есть куда более опасный противник, чем Россия — это мусульманская революция. Как когда-то большевизм»
— В одном интервью вы сказали: «Наполеон считался убийцей, нерукопожатным, а теперь это почти французский национальный герой. Даже бренд — коньяк, одеколон… И с Гитлером будет то же самое — рацио победит нравственность». Неужели человечество забудет все, что натворил Гитлер?
— В границах 15-20 лет всё начнет резко меняться в оценках. Но если вы спросите, на чем основывается мое убеждение, я не отвечу. Просто интуитивно чувствую. Это мое восприятие тех темпов, с которыми происходят изменения современных оценочных категорий. Ну кто из представителей моего поколения еще лет 30 назад мог представить, что в Петербурге будут существовать нацистские молодежные организации? Нам казалось это нереальным ни при каких обстоятельствах. Тем более в Ленинграде, где еще живы свидетели Блокады, участники Великой Отечественной войны. Тем не менее они есть. Причем не наследники русского национализма, а последователи именно немецкого фашизма, принимающие всю его систему и идеологию.
— Но наше общество все-таки считает их маргиналами…
— Пока это так, но, к сожалению, границы между понятиями очень уж быстро стираются, а почва для этого подготовлена.
— В той же Европе сегодня популярна тема российской угрозы. Вас это задевает как российского гражданина? Или считаете, что опасения Запада оправданы?
— Недавно ставил в Италии спектакль и, конечно, много общался с местной интеллигенцией. В их среде есть определенный страх перед вторжением российской армии на территорию Европы. Еще чаще я сталкиваюсь с этими опасениями в Прибалтике. Я прибалтам все время говорю: не бойтесь, этого не будет. Просто Прибалтике и Польше нужно образовать ассоциацию нейтральных государств — это для них идеальный выход. Ведь когда у вас на территории не будет баз НАТО, то и России не нужно будет направлять ракеты в вашу сторону. Будьте умнее: не сажайте малину у берлоги медведя.
Историк Борис Соколов: причин для революции нет, но они могут появиться неожиданно и быстро
Вообще, Европе пора понять, что есть куда более опасный противник, чем Россия — это мусульманская революция. Ведь почему так трудно справиться с ИГИЛ — потому что это не просто террористическая организация, а революционно-идеологическое движение мусульманского мира. Оно может возникнуть в любом месте, как большевизм. Ведь как ни давила Европа, а подавить большевистский мятеж в России не смогла. И ведь тоже была идеология — распространить большевизм по всем миру: Ленин и его последователи мечтали устроить революции в Европе. ИГИЛ руководствуется схожими принципами: христианство изжило себя, разложилось, давайте отправим христианскую цивилизацию на свалку истории и заменим ее новым порядком — мусульманско-политическим. И поскольку ракетами идею не победить, бороться с ИГИЛ, не вступая с ними в переговоры как с системой, значит обрекать себя на поражение.
— Так ведь звучит такой принцип: «не вступать в переговоры с террористами».
— Значит, он устарел. Теперь нужно учиться с ними договариваться. А для этого нужна мудрость. Вы посмотрите, почему наши мусульмане так сдержанно за всем этим наблюдают? Молчат и ждут, где вспыхнет и на какую сторону встать.
«Не надо думать, что кино безобидно, это заблуждение»
— Еще в 2002 году вы сказали газете «Известия»: «Американская киноагрессия убивает чувствующего и думающего зрителя. Россия в этом смысле побеждена». Что-то изменилось за 15 лет? Как оцениваете закончившийся Год российского кино?
— Ничего не изменилось. Если Год культуры закончился закрытием библиотек, то в Год кино мы потеряем все документальные киностудии Сибири, Урала, Дальнего Востока, северных регионов и Северного Кавказа. Государство, конечно, выделило чуть больше денег на дебюты, но это несерьезно. Нашему кино, чтобы полноценно развиваться, необходимо в год 80-100 дебютов, а сейчас выделили средства на 16.

Ничего не сделано для механизма существования кинематографа. Я говорю не о том, что нужно запретить прокат западного кино или продавать на зарубежные фильмы более дорогие билеты, как это делают во Франции. Я говорю о правовых и экономических мерах, которые могут способствовать развитию национального кино как индустриального направления, когда есть техническая база, разумные бюджеты, кинотеатры, доступ к телевидению… Именно такой системной работой должно заниматься Министерство культуры, а оно этого не делает напрочь.
К сожалению, это особенность органов управления в наше время. Когда вроде все на месте, а на самом деле никто ничего не делает. Регулярно видим, как президент спрашивает у них: почему это не сделано, а почему это не доведено до конца? Ему что-то отвечают, порой, он даже ловит кого-нибудь на лжи, однако ничего не меняется. Если так повсюду, то почему у нас в кино должно быть иначе?
— Сейчас развернулась активная борьба с интернет-пиратством, но ведь многие ваши фильмы можно посмотреть только благодаря торрентам. Да и вообще для людей, живущих за пределами крупных городов, торренты, по сути, являются окном в большой мир.
— Вот и мне кажется противоестественным, когда художник против того, чтобы его произведение увидело как можно больше людей. Я, конечно, делаю не продюсерское кино, которое жестко требует возвращения вложенных средств, и сам я вообще никогда не получал денег за прокат своих картин, но все равно мне непонятно, почему лишаем, таким образом, целый пласт наших соотечественников возможности выбора. Я не считаю, что в художественном пространстве должны быть какие-то ограничения. Аудитория сегодня очень бедна, поэтому мне кажется неправильным запрет на переиздание книг, ограничение доступа к музыкальным произведениям и кинофильмам.
Мы создаем государство, чтобы оно выполняло свои функции. А одна из главных его функций — с помощью культуры поддерживать общество в цивилизованном состоянии. Государство должно иметь ресурсы, чтобы компенсировать возможные потери правообладателям при открытии свободного доступа к фильмам или книгам. Я вообще считаю, что необходимо международное соглашение в рамках ЮНЕСКО или ООН о всеобщей доступности произведений мировой культуры. Но ведь опять скажут, что я, словно городской сумасшедший, предлагаю что-то нереализуемое.

— Примерно так восприняли ваш призыв к организаторам фестивалей класса «А» отказаться от фильмов со сценами насилия? Но ведь тогда исчезнет целый пласт жанров. Как экранизировать, скажем, «Войну и мир»?
— Я не призываю совсем не снимать про войну. Я предлагал отказаться от насилия на экране как профессионального, драматургического инструмента, отказаться от сюжетов и образов, связанных с героизацией или эстетизацией насилия. Я много лет об этом говорю и призываю к этому, но меня не слышат — ни здесь, ни в Европе. К сожалению, я уверен, что это, может быть, один из немногих случаев, когда я абсолютно прав. Героизация и эстетизация насилия наносят гораздо больший урон, чем, к примеру, любая экологическая проблема.
Пропаганда зла — это когда на экране вам показывают способ убийства, мучения человека. Такое кино носит непоправимый вред человеческой психике, ведь для современного молодого человека смерть не сакральна. Ему кажется, что убить ничего не стоит. Кино его убеждает, что человека можно убить разными способами: вырвать кишки, голову оторвать, глаза выколоть… Не надо думать, что кино безобидно. Это заблуждение.
— Но ведь для этого и введены возрастные категории «12 плюс», «18 плюс».
— Однако проблему они не решают — сегодня любой ребенок благодаря интернету может посмотреть, что угодно. Хотя и с этим можно справиться, уверяю вас, было бы желание. Электронный мир — такой управляемый и уязвимый сегмент, что 3-4 кнопок хватит, чтобы все это убрать из общего доступа, но, видимо, никому не надо.
— А что с вашим обращением к своим ровесникам-режиссерам хотя бы на год прекратить кинематографическую деятельность и отдать все выделенные государством средства молодым режиссерам? Хоть кто-то отреагировал?
— Конечно, нет. Я уже привык, что любые мои инициативы не вызывают никакой реакции у меня на Родине. Журналисты еще об этом спрашивают, а коллегам, очевидно, совершенно неинтересна моя точка зрения по злободневным вопросам.
— На Западе многие известные режиссеры ушли на телевидение. Свежий пример: Паоло Соррентино, снявший, по мнению Европейской киноакадемии, лучший фильм 2015 года — «Молодость», недавно выпустил телесериал «Молодой папа» про Папу Римского. Вам было бы интересно снять сериал?
— Ну, я делал большие документальные картины для телевидения. Например, «Духовные голоса» или «Повинность», которые продолжаются пять часов. Это большие произведения, драматургически выстроенные под телеформат. Но работать в тех условиях, в которых сегодня существует русское сериальное кино, мне не хочется. Мне неинтересны эти темы, они не имеют ко мне никакого отношения.

— А за границей?
— Мне предлагали, но целый ряд обстоятельств не позволил мне этого сделать.
19/02/2018
Режиссер Александр Сокуров дал большое интервью Софико Шеварнадзе о природе власти, о Борисе Ельцине и Владимире Путине. Кинодеятель попытался объяснить, почему несмотря на свою критическую позиции, нынешний президент России неизменно дает ему слово.
«Он (Путин — прим.ред.) хорошо знает, что мне лично от страны ничего не надо», - рассказывает в эфире «Эха Москвы» Сокуров. «Что всё, о чем я говорю, имеет отношение только к судьбе страны или той отрасли, частью которой я являюсь. Мне очень запомнился наш разговор, когда мы были один на один и он меня спросил, где я был за последнее время. И я ему сказал, что был в Ульяновской области и что у меня осталось тяжелое впечатление от одного места. «Что это такое?» - говорит он. - «Ульяновский завод «Авиастар», пустой завод, где ничего не производится, где стоят недостроенные самолеты». И он подробно выслушал все мои впечатления, не прерывая. Он вообще в разговоре один на один абсолютно другой, чем в публичном поле… Как и Борис Николаевич, кстати».
По словам Сокурова, Путин действительно слушает людей, однако подвержен влиянию окружения.
«Он слушает, он действительно слушает. Но, мне кажется, что его могут настраивать против тех, кто систематически ему возражает, публично тем более. То есть ему можно доложить про меня всё что угодно. Вот мне говорят, что идет сейчас разработка ФСБ. Ищут против меня какие-то компрометирующие документы, еще что-то. Я не могу понять, почему…», - добавляет Сокуров. «Я уверен, что он сам не воспринимает меня как какого-то врага. Мне всегда дают слово. Но между тем, как мне кажется, мы как-то не до конца слышим друг друга. Я понимаю, что он может не слушать меня или не до конца слушать…».
Однако режиссер уверен, что общение лучше выстраивать с помощью личных встреч.
«И, я думаю, что не хватает, конечно, прямого разговора. Это разговор, при котором невозможно не перебивать человека. Я знаю, что он очень не любит, когда его перебивают. Мне после разговора о Сенцове [на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в декабре 2016 г.- Ред. ] много раз делали замечание, как я там посмел несколько раз вторгаться, останавливать, перебивать Президента. Но при этом я не почувствовал с его стороны какой-то злобной раздраженности или мстительности. Это очень странно. Я действительно иногда веду себя резко, но исключительно потому, что я настолько встревожен тем, что происходит вокруг меня, я настолько несу ответственность за это… Бывает, просто не уснуть… Тревога не от политики, не от внешней войны, а оттого, что изнутри происходит с нами, с теми людьми, которые окружают меня. Я же знаю, есть великие мои соотечественники, которые никогда не решатся сказать и десятой доли того, что я говорю».
На вопрос Шеварнадзе, какой бы художественный образ Путина сделал бы Сокуров в своем потенциальном фильме о президенте, тот ответил: «Человек, который стоит перед подножием очень высокой крутой горы и не знает, что будет, если он поднимется на вершину, есть ли там еще более тяжелые вершины и что делать: штурмовать или обустраивать всё у подножия и с кем. Главное - с кем. Он видит, кто рядом с ним, и понимает, что с ними штурмовать - не подняться. Вот такой был бы образ. Они очень сильно с Борисом Николаевичем отличаются. Ельцин - это человек, который так же стоит, но в окружении более надежных людей на берегу очень-очень широкой реки, где не видно того берега и кто там на берегу. Вот два разных образа. Одинаково трагичные, конечно, и одинаково сочувственные. Я по природе своей человек художественный, не публицистический. И мне нравится эта модель медицинская, которая применима, наверное, к кинематографу или драматургии: мы сотрудники больницы, к нам привозят какую-то группу раненых, больных, и многие из них такие мерзавцы, что к ним прикоснуться страшно. Но мы должны принять их, поставить диагноз во что бы то ни стало, вылечить и вернуть их в общество. Не в яму выбросить, не расстрелять, не удушить, а вернуть в общество. И пусть народ или, там, Бог судит этих преступников. Искусство не имеет права убивать преступников. Оно вообще не имеет право убивать…».
Мария Кувшинова: Во «Франкофонии» ведь нет русских денег?
Голландия, Франция и Германия — русских денег нет.
Кувшинова: Почему тогда в фильме появился блокадный эпизод? Почему было так важно протянуть мостик от Лувра к Эрмитажу?
Сокуров: Меня это волновало. В литературном сценарии тема упоминалась, но не была разработана: всё делалось по моей внутренней экспликации. Был нужен моральный баланс: речь о ценности человеческой жизни — о настойчивости и податливости, о последовательности и непоследовательности, о поведении людей.
Кувшинова: В «Русском ковчеге» ваш закадровый голос, обращаясь к герою Дрейдена, произносит: «Вы, европейцы…». Во «Франкофонии» звучат другие слова: «Мы, европейцы…». Так кто ж мы наконец?
Сокуров: Мы — европейцы. Всё же в «Ковчеге» была другая драматургия и другой взгляд. Когда смотришь изнутри русской истории, русской культуры, европейцы — они. Когда смотришь из времени, которое течёт сейчас: мы — европейцы. Тогда — они, сейчас — мы. Время, когда они были абсолютными нашими учителями, — прошло. В XIX веке мы были маленькой сестрёнкой, которая все время говорила: «Нет-нет, я большая. Я уже большая. Дайте я сама». Не любила, когда её одевают. Первая мировая война провела границу. Наши бывшие учителя и наставники «впутали» нас в плохую историю, пользуясь представлением о том, что мы младшая сестра. Забывая о том, что в определённом возрасте уже не имеет значения, сколько лет твоей сестре или твоему брату. Наступает время, когда опыт познания преобразовывает всех.
Кувшинова: Сегодня, однако, мы от Европы дистанцируемся, и уже не только на уровне риторики.
Сокуров: Это глупость. Куда бежать? С Земли? У них что, есть ресурсная Земля? Они лунатики, что ли? Парадокс политики России всегда в непонимании того, что соседи никуда не денутся и пронесут тяжелую память о нас через многие годы. Я сейчас был в Польше. Прекрасные отношения с людьми, как будто никогда ничего не было. Восстановленная, развивающаяся страна. Но как только разговариваешь с политиками — они как сумасшедшие. Тяжёлая дурная память. С соседями можно ссориться, но воевать нельзя. Но это вопрос о другом, политическом мировоззрении… Есть эволюция культурная, есть эволюция научно-техническая, а политической эволюции как будто и нет. Как складывались обстоятельства накануне Первой мировой войны, накануне Второй — так они складываются и сейчас. Продолжается полная дегуманизация политической сферы, последний раз, когда в политику прорывались гуманитарии (и то с весьма слабыми возможностями), — XIX век. Многие русские гуманитарии занимались политикой, например Тютчев, который был и цензором, и дипломатом. Дипломатом был Грибоедов. Люди не считали политику и госслужбу недостойной чина и совести своей.
Василий Степанов: Французы с немцами у вас как раз ссорятся… А в фильме Германия и Франция даже не соседи — сёстры.
Сокуров: Между родственными людьми — самые сложные отношения. Самые жестокие. Беспощадные конфликты — с самыми близкими по крови. Потому что слишком хорошо знают все достоинства и недостатки. Слишком близко живут. Государства тоже «устают» от соседства. Я это говорю не на основании своих эмоциональных экзерсисов, а на основании изучения документов. Этот фильм был тяжёлым, потому что приходилось многое заново изучать. Но я давно уже не специализируюсь на истории как на науке (если она вообще есть). Тем не менее некий метод аналитический, исторический заложен в меня. «Университетский принцип» подхода к теме, к материалу иногда очень усложняет мне работу. Здесь было много новых для меня документов, новых в открывшихся подробностях. Когда начинаешь рассматривать подробности, то понимаешь, что многое имеет совершенно другую клеточную структуру. Начинаешь понимать, что такое Европа; почему у неё всегда было стремление к объединению, но долго не создавались крупные государства. Сколько времени прошло, пока сложились Италия и Германия?
Но вот сложились… Возьмите любой исторический виток — там всё есть. Причины, схема каждой катастрофы, но никто из людей, у которых власть, не оборачивается назад. Поразительно: нет пластичности. Политики — это люди со страшным остеохондрозом. Они не могут оборачиваться назад. Когда им говорят: «Посмотрите! Посмотрите! Уже наступает! Уже вот-вот! Хотя бы оглянитесь!» — «Не будем, — говорят. — Мы видим только то, что впереди!». А потом хляби небесные разверзлись — и новый, как с нуля, виток.
Кувшинова: Или используют определённые обстоятельства истории…
Сокуров: В своих интересах.
Кувшинова: Без понимания единого процесса.
Сокуров: Так. Просто власть оказывается в руках людей мелких, маленьких. Никто из европейских или русских политиков, политтехнологов, историков не собирается [ничего] менять или продумывать. Никто не хочет задуматься о том, что в механизме давно сгнившие детали. Так, российское федеративное устройство требует обновления, но это работа настолько масштабная и одновременно ювелирная, что боятся к ней даже приступать. Разрушение страны неизбежно.
Кувшинова: То есть мы судим о цивилизации по культурному и научно-техническому прогрессу, в то время как есть еще и политическая сфера, и она входит в конфликт с двумя другими…
Сокуров: Да. Всегда все знают, что война будет. Музейщики первыми понимают это, поскольку имеют дело и с прошлым, и с настоящим, и с будущим. Искусство живет не только в своём времени. Свое влияние, свою мощь оно забрасывает дальше, потому и искусство. Сразу было понятно, что «Джоконда» родилась не для своей эпохи. Она родилась раньше времени, была чудесным образом сформулирована на холсте, а потом её жизнь стала бесконечной — пока будет существовать цивилизация. Так и литературе удаётся прорваться в будущее на много, на много лет вперед. Музыке — наверное, живописи — точно… Музейщики знают, что будет дальше. Другое дело — кто и в какой степени к этому готов. Наш Эрмитаж подавал документы на подготовку к эвакуации задолго до того, как началась война, но им не разрешили. Из политического страха. Музейщики Франции могли принимать решения самостоятельно, поэтому задолго до войны всё вывезли из Лувра и разбросали по замкам.
Все же понимают, что война — это ещё и экономика: бомбить какой-то отдельный замок никто не будет. Самолёт с бомбами поднимается в воздух, а в штабе — бухгалтерская ведомость. Бомбить — дорого. И вывезти такое количество экспонатов тоже сверхдорогая процедура: нужны специальные ящики, специальный транспорт. Долго-долго машины шли через всю Францию. В некоторых замках приходилось стены прорубать, чтобы внести большие картины.
Степанов: Как Жерико?
Сокуров: Да, Жерико. И таких картин было много — тех, которые рискованно сматывать в рулоны. «Джоконду» даже из родной рамы нельзя было вынимать. Эвакуация была тяжёлой публичной процедурой, шла на виду у всей страны. У нас бы ночами делали, а Лувр вывозили открыто, даже снимали это на плёнку. От процесса эвакуации Эрмитажа у нас нет ни одной фотографии, ни одного кинокадра. Кроме своеобразных и весьма субъективных рисунков, нет никаких материалов. Нет никакого воздуха для исследователей — вот вам отличие от Европы. Мы с большой долей вероятности могли не сберечь Эрмитаж: в годы сумятицы, в страшно напряжённом графике движения поездов можно было не успеть вывезти. В условиях страшного мороза, бомбёжек, мы бы потеряли его и несли бы сейчас ответственность перед всем миром. К счастью, этого не произошло.
Кувшинова: И есть сквозная линия ваших переговоров по скайпу с капитаном судна, который везёт картины через февральское море…
Сокуров: Полагаю, капитан даже не знает, что в этих контейнерах, может, и скульптуры.
Кувшинова: И тем не менее ставится вопрос: надо ли рисковать человеческой жизнью ради культуры?
Сокуров: Да. Такой выбор. Спасти свою жизнь и жизнь экипажа или сбрасывать Рембрандта, Делакруа в море? Он не может решить эту проблему.
Кувшинова: И вы его уговариваете выбрать жизнь.
Сокуров: Да, я уговариваю. А он решение принимает другое. То самое решение, которое должен принимать, несмотря на уговоры, каждый человек: совершить поступок или нет. Но это право отдельно взятого человека.
Кувшинова: Эти слова про «последнюю страсть» — означают ли они, что от старой Европы осталась только её культура?
Сокуров: Это такой скрытый вопрос, который можно сформулировать, наверное, очень грубо: как вообще всё это оказалось потом возможно в Европе? Там, где совершались такие грандиозные научные открытия, где была систематическая художественная жизнь — как было возможно, что там возникали такие запредельные для разума «идеи», как Французская революция, которая унесла нисколько не меньше [жизней], чем наша революция; Первая мировая война; Вторая мировая война?… Это ведь всё в Старом свете, в этом святилище — всё там. И Крестовые походы оттуда шли, и Наполеон, который считался убийцей, нерукопожатным…
Кувшинова: Как Гитлер сейчас.
Сокуров: А теперь это почти французский национальный герой, человек, вокруг которого пляски пляшут. И мы его воспринимаем… У меня одеколон стоит, «Новая заря» выпускает — «Наполеон» называется. С Гитлером будет то же самое, уверяю. Рацио победит нравственность.
Кувшинова: Вы ведь иронизируете над Наполеоном в своем фильме. Он все время говорит: «Се муа, се муа».
Сокуров: «Это я, это я». Потому что, с одной стороны, это правда, а с другой — часть национального характера. И он действительно со всех войн привозил [экспонаты для Лувра], и у него разума хватало — другой бы для себя вёз.
Кувшинова: Пирамидами вывозил…

Сокуров: …Иногда в ущерб военным операциям: кораблей-то всегда было очень немного. Только представьте себе эти странные деревянные суда, которые отправлялись в такой путь. На них грузили такие тяжёлые вещи. Это сейчас большие корабли, действительно, хоть пирамиду загрузи. Отчего корабли гибли? Укрепить каменные конструкции надёжно было невозможно. Шторм, и корабль начинал раскачиваться, шел на дно. Деревянные корабли лежат на дне, придавленные скульптурами. Вместе с морячками… Но надо было сообразить, надо было понимать, что всё это имеет значение. Наполеон понимал, что он человек, что он умрет, а это переживёт его эпоху.
Кувшинова: Он делал это для Франции?
Сокуров: Для Франции, как он себе её представлял…
Кувшинова: Почему вы подчёркиваете в фильме комичность Наполеона?
Сокуров: Он не совсем комический, он там всякий. У него есть силы смотреть с иронией на всё это, и у меня есть силы.
Кувшинова: Он немного похож на Гитлера в «Молохе», который разражается речью о стратегической крапиве.
Сокуров: Что тоже есть предмет конкретный. Потому что самовластие всегда доходит до абсурда. Любой абсолютизм всё доводит до абсурда. И Петр I всё доводил до абсурда своей жестокостью и эгоистическим желанием… Мужской эгоизм — известный факт. А как ещё? Смотреть на него трагически? А что вслед за этим? Господь уже с ним разобрался там наверху, я думаю.
Степанов: Неоднозначность Наполеона ещё и в том, что он после всех войн оставил страну с бюджетным профицитом. Наворовали очень много. Вам про Наполеона никогда не хотелось кино снять?
Сокуров: Моральный выбор — о чём снимать. Я бы, конечно, никогда не стал бы снимать — это было бы для меня не интересно по определению — о жестокосердии, о злобности характера человеческого, который в жизни я, как и все, вижу. Кинематографическими средствами это зло увеличивать, взращивать, давать ему шанс пожить ещё на экране, а для многих людей дать инструкцию, как надо себя вести?.. Главный результат кинематографического воздействия на людей — это инструкция по поведению. Хотим мы того или нет? Это касается и криминального кино, и военного кино, где показываются мощные отрицательно блестящие персонажи.
Степанов: Вам кажется, что кино всё еще воздействует на аудиторию?
Сокуров: Оно всегда было и будет таким. Потому что зритель не ведущий, а ведомый. У режиссёра средства настолько сильны, что он всегда идет первым. Нет таких фильмов, которые позволили бы себе равенство автора со зрителем. Режиссёр всегда что-то знает лучше, чем люди в зале, по крайней мере, большинство. Потому что он берётся за материал, который изучал, показывает то, что для подавляющего большинства является чем-то новым: новое лицо, новый сюжет, новый поворот истории, новую динамику. Режиссёр диктует. И в этом смысле я согласен с Наталией Дмитриевной Солженицыной, которая говорила, что самое плохое в кинематографе — то, что он подчиняет и принуждает людей. Поэтому кино и не может пока называться искусством; это только вид художественного творчества. С разной степенью приближения к искомому, необходимому, нужному для людей. Когда в кинотеатре, в зале и на экране будут равнозначные и равновеликие силы, мы сможем говорить о том, что ответственность делится и на тех, и на тех. Пока ответственность лежит на режиссёре, он вытворяет, что хочет. Хорошо, если у него тормоза есть, а если нет тормозов?

Степанов: В «Франкофонии» довольно ясно читается мысль, что музей и война — очень связанные вещи…
Сокуров: Я добавлю — к сожалению.
Степанов: Я, как и вы, недавно был в Польше. В Гданьске, там в Национальном музее выставлен «Страшный суд» Мемлинга. Я знал, что он был в Эрмитаже какое-то время, и наконец понял, почему. Этот триптих писали в Брюгге, а по пути во Флоренцию его украл данцигский капер; сотни лет «Страшный суд» простоял в Гданьском соборе. Потом его вывез Наполеон, и он находился в Лувре. Оттуда его вывезли немцы, а уже из Тюрингии советская армия вывезла его в Эрмитаж. И потом социалистическое правительство Польши как-то смогло вернуть триптих обратно в Гданьск. Поразительно, но вернулся он не в место, где он был создан и заказан, а туда, где жил укравший его пират… Где искусство в этой цепи похищений?
Сокуров: Статусность искусства — самая вечная и крепкая валюта. Всегда будет идти борьба за него. Если выставить на торги «Джоконду», её никто не купит. Какой смысл быть ей в Эрмитаже, если человек цивилизованный спокойно может съездить в Париж и там её увидеть? А содержать «Джоконду» в Эрмитаже ой-ой-ой как дорого. Разорвать эту рациональную цепь можно только во время [большой] войны. Первая, Вторая мировые войны — у них не было вообще никакого гуманитарного подтекста или намерения. Они не имели никакого возвышенного смысла. Накопилась где-то сила — а она в Германии обычно накапливалась, потому что немцы быстро развились как особенный психофизический тип, направленный на созидание. Возникновение нацизма в его технологическом совершенстве — оборотная сторона созидания. Немецкий рабочий создавал идеальное вооружение, которое никогда не отказывало, в отличие от вооружения, которое создавали русские рабочие. Доверие военных к своим заводам, а руководителя страны — к своим предпринимателям сплеталось в одну очень прочную ткань, которой можно было задушить. Так плотно соткана, что вздохнуть невозможно.
Степанов: Нет ли в музейном стремлении сохранять, ограждать искусство от бурь специфического зла, отрицания истории? Сравните Калининградскую область, где всё лежит в руинах, и дух истории так плотен, и тот же Гданьск, восстановленный, но лишённый ощущения случившейся трагедии. Лишённый, по сути, памяти. Нет ли в стремлении пережить и восстановить разрушенное антиисторического зла?
Сокуров: Тогда не убирайте трупы с улиц городов. Ждите, пока истлеет, пока ветер унесет. К сожалению, это неизбежно. Это очень серьёзный вопрос. Даже не хочется сейчас оперативно — грубо и пошло — на эту тему говорить. Я в данном случае могу посмотреть только с одной стороны — со стороны человека, который имеет отношение к созданию чего-то. И то, что для меня стало давно очевидным: музей — это одна из форм борьбы с гордыней авторов. Среди нас, тех, кто что-то делает, много людей с самомнением, дурных, необразованных, тёмных — и в живописи, и в кино, и в литературе. Музейная систематика ставит все на свои места. Кроме того, она заявляет, что культура не только нуждается в систематике, но она и не может существовать без неё. И искусство глубоко эволюционно. Это знак эволюции. Не революции. Потому что в революционных условиях возникает чаще всего деструкция. Деструктивное поведение. Появляются такие шедевры, как «Черный квадрат», который… Я не знаю, как это сформулировать, чтобы не обидеть ничей вкус, ничьи убеждения… И Филонов, с его блестящими иногда работами, но с попыткой деструктивного выброса. Люди, которые это изучают, они же не занимаются ещё и психологией. Они не понимают, что это выражение страшного внутреннего состояния.
Кувшинова: Но это ведь ещё и внешняя обстановка, давление среды.
Сокуров: Конечно, это выражение страшного внутреннего состояния, давления времени на художника. Есть художники, на которых время не оказывает такого тяжелейшего влияния. А есть те, кто фиксирует, впитывает в себя эти кошмары. Мы можем только представить себе, каким писателем мог бы стать Солженицын, если бы не было советского кошмара, если бы он продолжал заниматься собственно художественной литературой, а не ушел бы, в качестве протеста, в историко-художественный жанр — глобальный, грандиозный, огромный, но всё же историко-художественный. Мы понимаем, что «Матрёнин двор» и «Один день Ивана Денисовича» — шедевры и литературные, и ситуационные. Понимаем, что бы могло быть, если бы власть относилась с пониманием к его ценности. Он уже национальное достояние. Необходимо, чтобы в стране были люди, которые могут оценить это. Музеи дают такую возможность.

Кувшинова: Но музейная система, музейные иерархии тоже эволюционируют. Если посмотреть путеводитель по галерее Уффици конца XIX века, то звёздочки-рекомендации будут стоять совсем у других картин, не у тех, у которых сейчас.
Сокуров: Дело не в акцентах. Дело в том, что там есть. Как и что думали про Дюрера или Рембрандта, ровным счётом не имеет никакого значения. И что писали исследователи про него, не имеет абсолютно никакого значения. Важно, что эти исследователи, как я надеюсь, имели отношение к тому, что это сохранилось.
Кувшинова: То есть неважно, что Гёте считал Джотто примитивом и никак им не интересовался?
Сокуров: Абсолютно. Это только говорит о непостижимости некоторых вещей. Художественное произведение — явление тонкое, чувственное, и далеко не всегда оно постижимо всеми людьми одновременно. А отношение Толстого к Шекспиру? Или отношение Набокова к Флоберу и к большой части французской литературы: все эти размышления о буржуазности и так далее. Но что делать? Господь сподобил Набокова читать лекции студентам по литературе. Надо же что-то читать. Он начал анализировать не литературные достоинства автора, а просто свои внутренние переживания по поводу женских персонажей и по поводу того, как с женскими персонажами работает коллега-писатель. Вот и всё. При чем тут буржуазность? Это говорит о том, что бедные писатели политически также ангажированы. В «Госпоже Бовари» Флобера уж точно волновали не буржуазные акценты, они были лишь естественным отражением того времени. Давайте обвинять Толстого в несовершенстве сюжета «Анны Карениной», бедной женщины, которую буржуазное общество привело на рельсы. Лев Николаевич решил, что эта картина разрезанной женщины будет вполне адекватна каким-то его отношениям с женщинами в попытке разрешить этот неразрешимый вопрос — почему мы такие разные? В отчаянной попытке, потому что просто ответа на этот вопрос нет. Когда у автора нет ответа, он всегда расправляется со своими персонажами. Убивают все. Может быть, только один Чехов немножко улыбается и смеется, а все остальные — убийцы.
Кувшинова: У Чехова ребёнка убили.
Сокуров: Да, но это оттого, что сам он был свидетелем подобного. Как сельский врач. У меня есть фотографии того, что они заставали во второй половине 1880-х. Кошмар жизни русского народа. Как выглядели русские деревни, в каком нищенстве жили русские крестьяне… Они сидели на берегу великой русской реки Волги, а по Волге шли на запад пароходы с зерном. Откуда это богатство купцов Бугровых, волжских? Это оттого, что продавали мёд, пеньку задорого, а свои недоедали. Это единая цепочка, тут очень трудно оторвать одно от другого.

Кувшинова: Получается, что Лувр оплачивался за счёт разграбления чужих народов, а Эрмитаж — за счёт разграбления своего.
Сокуров: Цепочка эта понятна. Эрмитаж пополнялся за счёт налогов, которые брали и с имущих. Но всё же это разные вещи. Наверное, только после Второй мировой войны у кого-то возникли претензии к Эрмитажу, поскольку там, наверное, появилось что-то, что было реквизировано. Как Наполеон говорил: «У искусства нет родины. Там, где искусство, там и родина».
Степанов: Я помню первую фразу из вашего фильма про Робера, которая меня до сих пор трогает: «Ему повезло, он совпал со своим временем». А главные герои «Франкофонии», Вольф-Меттерних и Жожар, совпали со своим?
Сокуров: Конечно. Конечно. Но и опередили его. Меттерних точно шёл впереди времени своего, потому что он был открыт к культуре народа, нации, которая была совсем другой. Он действительно знал великолепно французский язык, у него не было комплекса, что я вот немец, а тут великая страна. Он был глубокий учёный. Меня помощник Пиотровского, спросила, не слишком ли я идеализирую Меттерниха. Может, у него были какие-то другие предпочтения. Что ответить: может быть… Но главное результат. Конечно, его власти не хватило бы, если бы появилось более сильное волевое решение нацистского руководства о вывозе [Лувра] в Германию.
Кувшинова: Меттерних ведь не единственный пример. Был, например, немецкий офицер, который не стал бомбить Понте Веккьо во Флоренции.
Сокуров: Да. Были примеры, когда военные (и наши в том числе) разминировали города, жертвовали собой при том, что за спиной был абсолютно разрушенный и разграбленный Советский Союз. У французов, бельгийцев не было за спиной людей, живших в землянках, чудовищной войны. Здесь… Цивилизованно сдали страну. Это вполне прагматично. Это в логике любого государственного деятеля и любого политика. Какой смысл сопротивляться силе, которая превозмогает? То же самое сделал в свое время Хирохито. На территорию большого острова высадилось 350 тыс. американцев, а армия, которой располагал император, состояла из 5 млн. Он бы эти триста пятьдесят тысяч сбросил в океан. Но что бы произошло потом? И речь не только об атомных бомбах: немедленно бы вошёл в войну Советский Союз. Наши ждали, очень хотели войти в Японию. Сталин хотел выход в южный океан. Но было принято взвешенное решение, был взгляд в будущее.
Кувшинова: Выходит, это всё — человеческий фактор. Противостояли машине отдельные люди, как ваш капитан в море, который должен принять решение.
Сокуров: Да. Потому что структура выдумана очень тяжёлая, очень большая. Механизм громоздкий. Большой часовой механизм: вставьте спичку где-нибудь — и всё, он останавливается. Пока не доберутся до этой спички, часы будут стоять… Маленький человек может эту спичку вставить, но мало кто это делает, по многим причинам. Большая часть — потому что сдаются. Все полагают: о, какая непреодолимая сила. Немцы и французы могут подбросить эту спичку, а вот русские не могут, потому что запас гуманитарных (не путать с религиозными) ценностей у нас разный. А там запас огромен. Как к этому пришли и каким образом — надо думать. Они тоже двигались через революции и через войны, не меньшие, чем мы. У нас даже было меньше революций и войн. Путь прошли одинаковый, как мне кажется. Только структура и принципы разума разные. Чем мы отличаемся от европейцев? У нас другая структура сознания и по-другому разум устроен.
Степанов: Если говорить о методе, то «Франкофонию» неизбежно будут противопоставлять «Русскому ковчегу». Принципиально другой подход: «Ковчег» — фильм без швов и зазоров, а тут вскрыта вся механика кино. Хлопушки в кадре, реконструкции, скайп, сложная рамочная конструкция, когда в современную жизнь инкорпорированы исторические персонажи…
Кувшинова: При этом, когда идет драматизация с актерами, она всё равно обозначена как кино за счёт этой рамки кадра…
Сокуров: И звуковой дорожки…
Кувшинова: Которые подчёркивают, что это кино.
Сокуров: Ну да, это чтобы не играть в правду. Я делал несколько фильмов, которые реставрируют время, реставрируют поведение людей во времени, и я считаю, что этот метод до определённой степени исчерпан. Нужен другой инструмент, другая материальная среда, другая технология и техника. Главное — нужна другая оптика. Современная оптическая культура исчерпана на 100%. Все эти операторские штучки, вся эта оптика, все эти объективы… Абсолютно исчерпавший себя художественный инструмент. Идти больше некуда. Тупик. Но мне кажется, я что-то придумал.
Степанов: Кажется, сейчас технические возможности позволяют делать всё что угодно.
Кувшинова: Андре Базен писал, что живопись в кино трудно показывать, потому что картина центростремительна, а экран — центробежен, и рамка картины вступает в конфликт с рамкой кадра.
Сокуров: Он тоже не до конца учитывает оптическую процедуру. Рамки кадра, рамки картины… Это только теоретизирование. Просто картина есть шедевр плоскостной. За картиной — ничего. Мы всегда видим абсолютно искусственное пространство. Никогда, нигде и ни в чём оно не совпадает с реальным пространством. Посмотрите на Брейгеля. Я уже не говорю о русской иконе и об обратной перспективе, удивительной, фантастической, найденной какой-то божественной наивностью и наитием. Шаг за шагом она стала фактом искусства. А перед камерой стоит объектив, который всё время говорит: «Всё объёмно! Всё объёмно! Вон там глубина кадра, вот человек прошёл, второй, третий». Но это не объём, это игры. И до тех пор, пока кино будет работать с этим уже ставшим глубоко коммерческим принципом оптической игры с объёмом, оно как искусство визуальное не состоится. Оно и не состоялось пока как визуальное искусство.
Степанов: Вам никогда не хотелось 3D -фильм снять?
Сокуров: Мне игры с объёмом не интересны. 3D — громадная технология. Фильм делается интуицией во время съёмок, во время съёмок набирается материал. Должна быть свобода для интуиции. Я думаю, что Фёдор Бондарчук снял бы совершенно другой «Сталинград», если бы не было этого соблазна сделать его в 3D . Он мог сделать что-то особенное. Это видно по нескольким кадрам: по атаке, когда бегут обожжённые, даже в аду, наверное, такого не бывает. Но технологическая дороговизна процедуры останавливает мозг. «Нет, он не может туда пойти, потому что камера его не увидит, нам не хватит контраста», и так далее. Пока внутри изображения человек… Конечно, есть мультипликация, самый высокий вид [кинематографа], она всё может, Норштейн все может… В советское время можно было точно предположить, что это был высший вид в изобразительном искусстве, во временной пластике. Сейчас же и мультипликация делается так, чтобы даже ёжику было понятно. Животный жанр.

Степанов: Для меня «Франкофония» в её фактурном разнообразии — свидетельство того, что кино сегодня должно фиксировать пребывание человека в разных визуальных средах…
Сокуров: Мне кажется, что кино в его экранной версии продолжает следовать органике человека. Для человека, например, неорганично смотреть маленький экран. Современная визуальная культура формирует человека вторичного, ленивого. Это видно по молодым людям, которые ориентируются на компьютерные технологии. Что это за психофизический тип? Такие люди, наверное, могут иметь детей, но всё остальное исключено. Я сейчас очень огрубляю, но технологии, очевидно, купируют целый ряд процессов, которые — хотим мы или не хотим — физиологически в нас заложены. Для мужчины смертельно, если физические и физиологические процедуры не имеют больше значения. Для женщины — нет. Женщина может быть статична в своем психофизическом развитии. А мужчине это противопоказано.
Степанов: Мы об этом очень часто говорим в связи с новым русским кино. На экране появился новый герой — человек в прострации.
Сокуров: Вообще, человек, имеющий дело с визуальностью, он значительно слабее. Это очень опасная направленность. Очень просто сейчас манипулировать большим количеством людей, внедрять патриотические и псевдопатриотические идеи, потому что сопротивление этому требует другого характера.
Кувшинова: Технический прогресс воздействует на физиологию?
Сокуров: Не просто воздействует, меняет её. На противоположное тому, что для человека определила природа.